Глава города Иван Носков обещал не допустить разрушения мозаичного панно на фасаде православной гимназии

Однако выяснилось, что судьбу арт-объекта будет решать некая художественно-реставрационная комиссия. Более того, в администрации Дзержинска заявили, что панно не является объектом культурного наследия и не имеет охранного статуса. «Репортер» разбирается, представляет ли это изображение историческую и художественную ценность?
Точку ставить рано
Судьбу мозаичного панно «Прометей» на православной гимназии будет решать некая художественно- реставрационная комиссия от администрации. Это следует из ответа, полученного российским художником дзержинского происхождения Павлом Отдельновым на письмо митрополиту Георгию, в котором известный земляк просил прояснить судьбу мозаики на фасаде православной гимназии.
Тревогу забила общественность
Информация о том, что Дзержинск может лишиться очередного мозаичного панно, появилась в соцсетях в начале июля. Горожане обратили внимание на то, что фронтон здания бывшей школы №15, на котором и расположена мозаика, одели в леса, а рядом поставили глухой забор.
По неофициальным данным, руководство гимназии решило «законсервировать» мозаику, причем самым незамысловатым способом: прибить на нее сверху гвоздями утеплитель, потом заштукатурить и покрасить. Как говорят знающие люди, назвать эту разрушительную для панно процедуру консервацией можно лишь с большой натяжкой.
Сейчас здание находится в безвозмездном пользовании у Нижегородской епархии. Тем не менее, оно по-прежнему является собственностью муниципалитета. Естественно, у возмущенных горожан возникли вопросы и к городским властям.
Глава города Иван Носков сообщил на своей странице «ВКонтакте», что КУМИ разрешения на демонтаж мозаики не давал. «Разрушения мозаики не допустим», – пообещал мэр.
«В настоящее время администрация гимназии проводит работы по утеплению фасада здания. После проведенных переговоров между администрацией города и представителями руководства гимназии было принято решение сохранить мозаику. Соответственно, демонтаж и закрытие конструкции мозаики проводиться не будет. Администрация города считает необходимым сохранение уникальных мозаик», – заверила пресс-служба администрации.
Работы всего лишь приостановлены
Тем не менее, вопреки заверениям городских властей, заведующий канцелярией Нижегородской епархии иерей Евгений Наумов сообщил в ответе Павлу Отдельнову, что работы по утеплению фасада гимназии, на котором расположена мозаика всего лишь приостановлены – «до принятия решения по этому вопросу художественно-реставрационной комиссией от администрации г. Дзержинска».
В общем, точку в этой истории ставить явно рановато. Примечательно, что уже после ответа администрации относительно мозаики, в паблике Дзержинск-онлайн появилось сообщение о том, что по мозаичному панно «прошлись перфоратором – приколотили металлический профиль».
Еще одна интересная деталь, завканцелярией епархии отметил, что до начала строительно-ремонтных работ Нижегородской епархией был направлен запрос в городскую администрацию и получен ответ, что данное панно не является объектом культурного наследия и не имеет охранного статуса.
Так что, можно предположить, что изначально мэрия была не против «консервации» мозаики.
Мнение эксперта
«Репортер» попросил кандидата искусствоведения Сергея Акимова дать оценку художественной ценности мозаичного панно на здании православной гимназии.
Мозаика – памятник целой эпохи
«Репортер» и другие СМИ не раз говорили о необходимости сохранить мозаичное панно, украшающее фасад православной гимназии – бывшей школы № 15 – на улице Строителей. Обеспокоенность судьбой произведения возникла давно: как только началась реконструкция здания, стало понятно, что мозаика не очень увязывается с его новым обликом, да и церковному учебному заведению вряд ли нужно светское изображение над главным входом. Подобно тому, как оказался не нужен музей В.П. Чкалова. Его благодаря совместным усилиям общественности и городской администрации удалось перенести в школу № 37 и тем самым сохранить. С мозаикой сложнее, ее не переместишь куда-нибудь по соседству. Сейчас на ней закреплена решетка из металлического профиля, очевидно, для крепления панелей под штукатурку.
Представляет ли это изображение историческую и художественную ценность? Или, может быть не стоит возмущаться тем, что арендатор приспосабливает здание к собственным нуждам и вкусам? Постараемся разобраться.
Типична для своего времени
 Мозаика, созданная в 1979 г. дзержинским художником Владимиром Николаевичем Смирновым (1943-1987), – свидетельство целой эпохи в истории советской культуры. В 1960-1980-х гг. чрезвычайно активно развивались разнообразные виды и формы монументально-декоративного искусства. Ушел в прошлое неоклассицизм предшествующего периода, за которым и в просторечии, и во многих публикациях закрепилось название «сталинский ампир». Изменился художественный язык советского зодчества, архитекторы стали использовать четкие геометрические объемы и их комбинации, стремясь придать образам зданий современную остроту. Преобладающими стали рационалистические, функционалистские тенденции. Порой в такой постройке монументально-декоративное произведение было не дополнением к архитектуре, а приобретало статус главного элемента образной выразительности. В огромных масштабах развернулось типовое жилищное строительство. Это тоже способствовало востребованности монументально-декоративного искусства: кварталы, застроенные одинаковыми домами, нуждались в эстетических акцентах, вносящих разнообразие в городскую среду.
Мозаика, созданная в 1979 г. дзержинским художником Владимиром Николаевичем Смирновым (1943-1987), – свидетельство целой эпохи в истории советской культуры. В 1960-1980-х гг. чрезвычайно активно развивались разнообразные виды и формы монументально-декоративного искусства. Ушел в прошлое неоклассицизм предшествующего периода, за которым и в просторечии, и во многих публикациях закрепилось название «сталинский ампир». Изменился художественный язык советского зодчества, архитекторы стали использовать четкие геометрические объемы и их комбинации, стремясь придать образам зданий современную остроту. Преобладающими стали рационалистические, функционалистские тенденции. Порой в такой постройке монументально-декоративное произведение было не дополнением к архитектуре, а приобретало статус главного элемента образной выразительности. В огромных масштабах развернулось типовое жилищное строительство. Это тоже способствовало востребованности монументально-декоративного искусства: кварталы, застроенные одинаковыми домами, нуждались в эстетических акцентах, вносящих разнообразие в городскую среду.
Именно поэтому фасады общественных зданий украшались мозаиками, витражами, композициями из металла и керамики, в интерьерах использовались росписи, резьба по дереву, гобелены. Этот творческий всплеск сопровождался не менее оживленными теоретическими дискуссиями о сущности монументально-декоративного творчества, его месте в современной культуре, путях дальнейшего развития. Искусствоведы охотно писали о новых произведениях монументалистов, издавались книги об истории и современном состоянии советского монументально-декоративного искусства, проводились специализированные конференции и совещания.
В Советском Союзе монументально-декоративные произведения рассматривались и как средство эстетического наполнения городского пространства, и как форма идейного воспитания (что обеспечивало широкий государственный и общественный заказ на них). Надо отдать должное мастерам: как правило, они создавали не плоские агитки, а яркие образы, раскрывающие темы труда, семьи, технического прогресса и многие другие. Разнообразными были и художественные решения: с героизированными сюжетами соседствовали лирические, с лаконичными, по-плакатному четкими формами – изысканная декоративность. Высока была общая планка, то, что называется средним уровнем, поэтому сейчас не выдающиеся, а просто добротно сделанные произведения воспринимаются как очень значительные. К ним относится и мозаика на школе № 15.
Примечательно, что названные тенденции имели место не только в столице и крупнейших городах Союза. Дзержинск, главным архитектором которого с 1968 по 1990 год был Евгений Александрович Синявский (1936-2000), не остался от них в стороне. Достаточно вспомнить всем нам знакомые фасады Дома книги, центрального бассейна, Политехнического института или перестроенного до неузнаваемости Дворца культуры «Корунд». Синявский понимал важность монументально-декоративного искусства, при нем сложилась целая группа художников, занимающихся украшением новопостроенных объектов, и В.Н. Смирнов часто был в этом деле на первых ролях.
Мозаика на 15-й школе во всем типична для своего времени. В окружении стандартных пяти- и двенадцатиэтажек это единственный художественный объект. Красочное, динамичное, рассчитанное на обзор издали изображение сразу же останавливает на себе взгляд, создает у зрителя приподнятый настрой. Мозаика хорошо согласовывалась с архитектурой здания, превращая обычный вход в школу в подобие торжественного портика с высокой лестницей.
Опыт и мастерство
 При внешней простоте мозаика обладает несомненными художественными достоинствами. Автор обыграл расхожие слова «огонь знания», «свет знания» и превратил стертое клише в выразительный образ юности и романтики, соответствующий всем законам монументального искусства. Без преувеличения, когда рассматриваешь произведение внимательно, убеждаешься, что здесь каждый кусочек керамической плитки находится на своем месте.
При внешней простоте мозаика обладает несомненными художественными достоинствами. Автор обыграл расхожие слова «огонь знания», «свет знания» и превратил стертое клише в выразительный образ юности и романтики, соответствующий всем законам монументального искусства. Без преувеличения, когда рассматриваешь произведение внимательно, убеждаешься, что здесь каждый кусочек керамической плитки находится на своем месте.
Изображение закомпоновано в вытянутый горизонтальный формат. Сверху и снизу оно срезано краями, по сторонам же от профиля девушки с факелом осталось свободное пространство, отчего в композиции возникает ощущение динамики. Его усиливает экспрессивный линейный рисунок: пламя разноцветными, сливающимися вместе языками вырывается из факела и стелется горизонтально, ему вторят развевающиеся волосы героини.
Пространство решено совершенно условно ради того, чтобы зрительно не разрушать плоскость стены. Здесь нет глубины, вокруг фигуры создана подвижная цветовая среда, в которой взаимодействуют бледно-желтый и голубой разной светлоты и насыщенности. У левого и правого краев намечены с помощью светотени абстрактные геометрические мотивы, расходящиеся от центра легкими энергичными изгибами. Эти элементы одновременно подчеркивают движение и останавливают его, не давая «вылиться» вовне. Благодаря этому приему горизонтальное лентообразное пространство словно слегка изгибается, углубляясь в центре, где голова девушки и огонь, и «выступая» по бокам.
Столь же условно трактованы объемы. На лице персонажа они подчеркнуты темными контурами, на чаше факела – четкими цветными полосами, создающими эффект отсвечивающей металлической поверхности. Очень удачно показана рука, сжимающая факел: простой жест наполнен энергией и силой.
Особенно красиво цветовое решение мозаики. Использована плитка разнообразных оттенков, но главное в том, как они подобраны друг к другу. Основных приемов здесь два. Первый – постоянное сопоставление теплых и холодных цветов. Так, в изображении огня присутствуют и желтый, и красный, и коричневый разных оттенков, и тут же вкраплены небольшие серебристо-голубоватые пятна. На прическе тени даны темно-коричневым, светлые места – серебристым, голубоватым. Благодаря тому, что на фоне соседствуют желтый и голубые оттенки, он не выглядит монотонным, вокруг фигуры возникает словно мерцающая цветовая среда. Второй прием заключается в том, что каждый цвет дан в развитии, обязательно подчеркнут присутствием другого цвета. Например, в изображении пламени рядом с коричневым контуром добавлено немного ярко-красного, а там, где красный преобладает, обязательно есть немного коричневого. И так – с каждым цветом. В итоге мозаика сохраняет необходимую в монументальном искусстве колористическую ясность, цвет при этом приобретает богатство оттенков, соблюдается единство всех красочных пятен.
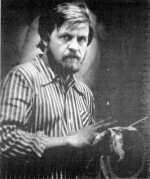 Анализируемую мозаику Владимир Смирнов делал, имея за плечами большой и многообразный опыт работы в монументально-декоративном искусстве. В 1960-х гг. он не раз трудился в команде с архитектором Е.А. Синявским и талантливыми художниками В.В. Осиповым, Ю.А. Мазановым, освоил художественные возможности различных материалов. Уже были созданы композиции на фасадах Политехнического института (1974) и Дома книги (1976), разработанные мастером полностью самостоятельно, а не в соавторстве, как большинство более ранних работ, и ставшие самыми значительными произведениями Смирнова-монументалиста. К заказу для школы он отнесся не менее ответственно, чем к этим важным по общественному звучанию и сложным по замыслу мозаикам, что вместе с талантом и профессионализмом обеспечило достойный результат.
Анализируемую мозаику Владимир Смирнов делал, имея за плечами большой и многообразный опыт работы в монументально-декоративном искусстве. В 1960-х гг. он не раз трудился в команде с архитектором Е.А. Синявским и талантливыми художниками В.В. Осиповым, Ю.А. Мазановым, освоил художественные возможности различных материалов. Уже были созданы композиции на фасадах Политехнического института (1974) и Дома книги (1976), разработанные мастером полностью самостоятельно, а не в соавторстве, как большинство более ранних работ, и ставшие самыми значительными произведениями Смирнова-монументалиста. К заказу для школы он отнесся не менее ответственно, чем к этим важным по общественному звучанию и сложным по замыслу мозаикам, что вместе с талантом и профессионализмом обеспечило достойный результат.
Владимир Николаевич Смирнов – из тех художников, о ком следует писать серьезные монографии и издавать альбомы репродукций. К сожалению, о нем опубликован, если не считать газетных материалов, лишь каталог посмертной выставки, состоявшейся в 1989 г., с небольшой вступительной статьей нижегородского искусствоведа Л.И. Помыткиной. На картинах Смирнова можно встретить образы, героизирующие повседневность и заставляющие вспомнить о «суровом стиле» в советской живописи, романтические, лирические, философски глубокие или, напротив, отмеченные чертами гротеска. Нередко в станковых произведениях мастера чувствуется опыт монументалиста: эти две сферы его деятельности постоянно и плодотворно влияли друг на друга.
Оценить масштаб дарования В.Н. Смирнова дзержинцы могли, посетив ретроспективную выставку в краеведческом музее, приуроченную к 30-летию со дня смерти художника. Экспозиция была совместным делом музейщиков и дочери мастера, хранящей значительную часть его наследия.
Думается, городским властям и меценатам имеет смысл позаботиться о том, чтобы творчество незаурядного художника сохранялось, изучалось, популяризировалось. И сделать это, не дожидаясь, пока мозаики исчезнут с фасадов по варварской прихоти или небрежению владельцев зданий.
Сергей Акимов, кандидат искусствоведения